Не умерли от рыбьего жира
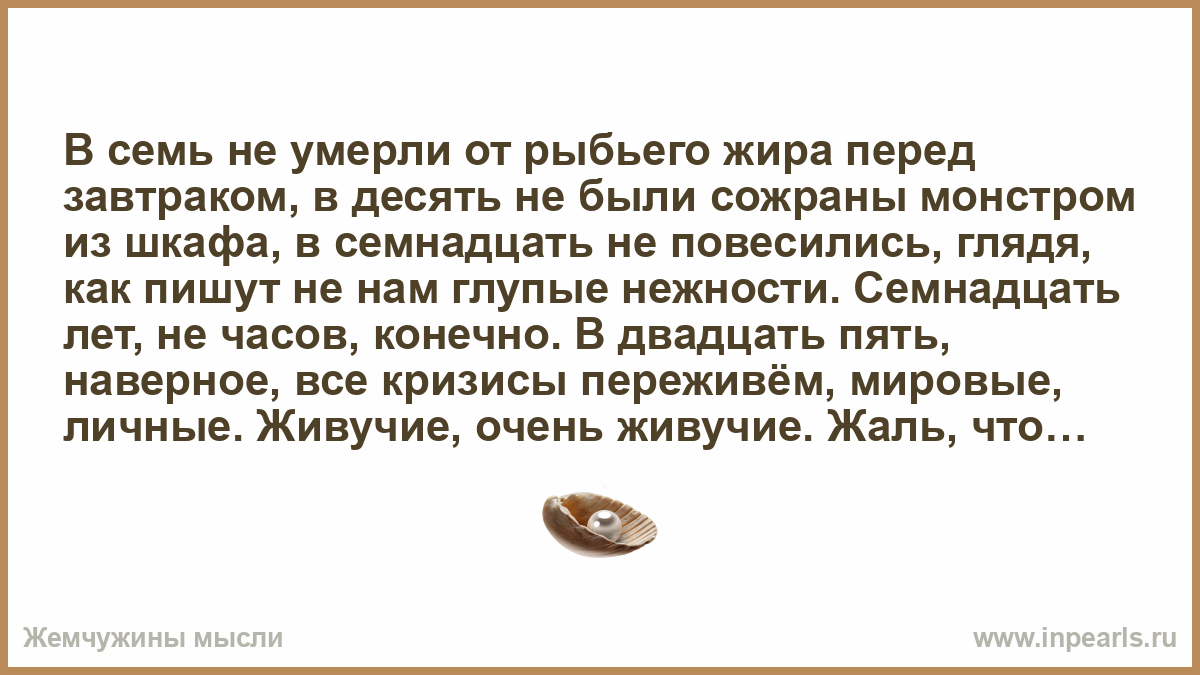
В семь не умерли от рыбьего жира перед завтраком, в десять не были сожраны монстром из шкафа, в семнадцать не повесились, глядя, как пишут не нам глупые нежности. Семнадцать лет, не часов, конечно. В двадцать пять, наверное, все кризисы переживём, мировые, личные. Живучие, очень живучие. Жаль, что никчёмные.
Мы же не здоровые как космонавты. Мы даже не здоровые как призывники. Нас уже привозили в травму интересно покалеченными, чем попало накачивали, зашивали, пересобирали без лишних деталей. И один хирург говорил не дёргаться, если еще дорога рука, а одна старая селёдка не пускала в кабинет, хотя кровь со лба текла так, что ресницы склеивались. На здоровый образ жизни смотрим с уважением, но тоже издалека, так что болели, болело, будет еще болеть. У волка боли, у медведя боли, иногда пытались аж помереть от смешного чего-нибудь, типа гастрита особо острого, в глазах пропадала картинка, и живот вспарывало раскалённой ложкой, и лежали, мокрые, слабые, вывернутые наизнанку. Ревели, хихикали, выдыхая говорили тем, кто сидел рядом — зато ощущения какие! какой опыт! а ты и не знаешь как это, лошара! — и замолкали, вдыхать учились. Те, кто был рядом, считали наше чувство юмора чувством полного идиотизма и разводили нам порошки, поджимая губы.
Мы не то чтобы поняли что-то там про любовь. То родину были готовы продать за родинки на плече, то добирались от одного чувства к другому автостопом, на попутных кроватях. Влюблялись как и все, быстро, пара часов, неделя, сразу до гробовой доски, каждый раз до гробовой доски и честно не понимали, про каких это бывших нас спрашивают, кто там вообще был-то? Не было никого, только ты. Подхватывать с полуслова, приходить мириться сразу — уже не до гордости, ездить на тот край света за твоим любимым Бальзаком, сутками нежничать в одеялах до голодного обморока, давать свою — свою! — чашку, которая почти святыня, никому и никогда. Что значит «ты со всеми так», кто такие все? Я не их люблю, а тебя. А потом как-то раз не прийти в девять, остаться работать, сбросить вызов, сбросить вызов, сбросить, сколько можно, получить «с кем ты, какого хрена» — восемь вопросительных, шесть обвинительных — и понять, что вот и гробовая доска, что домой не хочется до стекла в горле. Значит, не то самое. Мы знаем о любви всё, мы ничего не знаем о любви.
Мы совсем не умеем жить про большие деньги, да и просто про деньги не всегда получается. Научились не тому, ни факультета экономики в анамнезе, ни еще каких кружков кройки и нытья. Зато профессор говорил, читая наши работы — страшного мастерства достигают некоторые дети вопреки образованию — и мы сияли. Страшным мастерством сейчас можно заработать на съёмную кв с душем на кухне и растворимый кофе — но ещё не самый плохой. И если вдруг нас решат уйти, то недели на три сбережений хватит, а дальше будем сушить сухари и кормить кошкой собаку, а в июле ещё и черника растет, в августе арбузы из клеток воровать можно, друзья, опять же, котлетами подкармливают, ноги не протянем.
Мы, наверное, счастливые. Кто бы мог подумать. Недавно оказалось, что со счастьем там тоже всё просто. Не когда хорошо, весело, пьяно — а когда смерти в эту секунду нет. Разбитая губа — счастье. Новые ключи в кармане — счастье. Сообщение от понятно кого — счастье. Потерянное пальто — счастье. Билет до моря — счастье. Заявление по собственному — счастье категорическое.
И год впереди високосный, достать чернил и выпить, не плакать же, в самом деле.
И никчёмным нам вполне есть к чему жить.
#indulgencia_other
Источник
В семь не умерли от рыбьего жира перед завтраком, в десять не были сожраны монстром из шкафа, в семнадцать не повесились, глядя, как пишут не нам глупые нежности. Семнадцать лет, не часов, конечно. В двадцать пять, наверное, все кризисы переживём, мировые, личные. Живучие, очень живучие. Жаль, что никчёмные.
Мы же не здоровые как космонавты. Мы даже не здоровые как призывники. Нас уже привозили в травму интересно покалеченными, чем попало накачивали, зашивали, пересобирали без лишних деталей. И один хирург говорил не дёргаться, если еще дорога рука, а одна старая селёдка не пускала в кабинет, хотя кровь со лба текла так, что ресницы склеивались. На здоровый образ жизни смотрим с уважением, но тоже издалека, так что болели, болело, будет еще болеть. У волка боли, у медведя боли, иногда пытались аж помереть от смешного чего-нибудь, типа гастрита особо острого, в глазах пропадала картинка, и живот вспарывало раскалённой ложкой, и лежали, мокрые, слабые, вывернутые наизнанку. Ревели, хихикали, выдыхая говорили тем, кто сидел рядом — зато ощущения какие! какой опыт! а ты и не знаешь как это, лошара! — и замолкали, вдыхать учились. Те, кто был рядом, считали наше чувство юмора чувством полного идиотизма и разводили нам порошки, поджимая губы.
Мы не то чтобы поняли что-то там про любовь. То родину были готовы продать за родинки на плече, то добирались от одного чувства к другому автостопом, на попутных кроватях. Влюблялись как и все, быстро, пара часов, неделя, сразу до гробовой доски, каждый раз до гробовой доски и честно не понимали, про каких это бывших нас спрашивают, кто там вообще был-то? Не было никого, только ты. Подхватывать с полуслова, приходить мириться сразу — уже не до гордости, ездить на тот край света за твоим любимым Бальзаком, сутками нежничать в одеялах до голодного обморока, давать свою — свою! — чашку, которая почти святыня, никому и никогда. Что значит «ты со всеми так», кто такие все? Я не их люблю, а тебя. А потом как-то раз не прийти в девять, остаться работать, сбросить вызов, сбросить вызов, сбросить, сколько можно, получить «с кем ты, какого хрена» — восемь вопросительных, шесть обвинительных — и понять, что вот и гробовая доска, что домой не хочется до стекла в горле. Значит, не то самое. Мы знаем о любви всё, мы ничего не знаем о любви.
Мы совсем не умеем жить про большие деньги, да и просто про деньги не всегда получается. Научились не тому, ни факультета экономики в анамнезе, ни еще каких кружков кройки и нытья. Зато профессор говорил, читая наши работы — страшного мастерства достигают некоторые дети вопреки образованию — и мы сияли. Страшным мастерством сейчас можно заработать на съёмную кв с душем на кухне и растворимый кофе — но ещё не самый плохой. И если вдруг нас решат уйти, то недели на три сбережений хватит, а дальше будем сушить сухари и кормить кошкой собаку, а в июле ещё и черника растет, в августе арбузы из клеток воровать можно, друзья, опять же, котлетами подкармливают, ноги не протянем.
Мы, наверное, счастливые. Кто бы мог подумать. Недавно оказалось, что со счастьем там тоже всё просто. Не когда хорошо, весело, пьяно — а когда смерти в эту секунду нет. Разбитая губа — счастье. Новые ключи в кармане — счастье. Сообщение от понятно кого — счастье. Потерянное пальто — счастье. Билет до моря — счастье. Заявление по собственному — счастье категорическое.
И год впереди високосный, достать чернил и выпить, не плакать же, в самом деле.
И никчёмным нам вполне есть к чему жить.
Источник
Íàéäåíî íà ïðîñòîðàõ. Î÷åíü íåîáû÷íî íàïèñàíî. Íàïîìèíàåò ìàíåðó ïîâåñòâîâàíèÿ Èãîðÿ Ëåòîâà.
 ñåìü íå óìåðëè îò ðûáüåãî æèðà ïåðåä çàâòðàêîì, â äåñÿòü íå áûëè ñîæðàíû ìîíñòðîì èç øêàôà, â ñåìíàäöàòü íå ïîâåñèëèñü, ãëÿäÿ, êàê ïèøóò íå íàì ãëóïûå íåæíîñòè. Ñåìíàäöàòü ëåò, íå ÷àñîâ, êîíå÷íî.  äâàäöàòü ïÿòü, íàâåðíîå, âñå êðèçèñû ïåðåæèâ¸ì, ìèðîâûå, ëè÷íûå. Æèâó÷èå, î÷åíü æèâó÷èå. Æàëü, ÷òî íèê÷¸ìíûå.
Ìû æå íå çäîðîâûå êàê êîñìîíàâòû. Ìû äàæå íå çäîðîâûå êàê ïðèçûâíèêè. Íàñ óæå ïðèâîçèëè â òðàâìó èíòåðåñíî ïîêàëå÷åííûìè, ÷åì ïîïàëî íàêà÷èâàëè, çàøèâàëè, ïåðåñîáèðàëè áåç ëèøíèõ äåòàëåé. È îäèí õèðóðã ãîâîðèë íå ä¸ðãàòüñÿ, åñëè åùå äîðîãà ðóêà, à îäíà ñòàðàÿ ñåë¸äêà íå ïóñêàëà â êàáèíåò, õîòÿ êðîâü ñî ëáà òåêëà òàê, ÷òî ðåñíèöû ñêëåèâàëèñü. Íà çäîðîâûé îáðàç æèçíè ñìîòðèì ñ óâàæåíèåì, íî òîæå èçäàëåêà, òàê ÷òî áîëåëè, áîëåëî, áóäåò åùå áîëåòü. Ó âîëêà áîëè, ó ìåäâåäÿ áîëè, èíîãäà ïûòàëèñü àæ ïîìåðåòü îò ñìåøíîãî ÷åãî-íèáóäü, òèïà ãàñòðèòà îñîáî îñòðîãî, â ãëàçàõ ïðîïàäàëà êàðòèíêà, è æèâîò âñïàðûâàëî ðàñêàë¸ííîé ëîæêîé, è ëåæàëè, ìîêðûå, ñëàáûå, âûâåðíóòûå íàèçíàíêó. Ðåâåëè, õèõèêàëè, âûäûõàÿ ãîâîðèëè òåì, êòî ñèäåë ðÿäîì çàòî îùóùåíèÿ êàêèå! êàêîé îïûò! à òû è íå çíàåøü êàê ýòî, ëîøàðà! è çàìîëêàëè, âäûõàòü ó÷èëèñü. Òå, êòî áûë ðÿäîì, ñ÷èòàëè íàøå ÷óâñòâî þìîðà ÷óâñòâîì ïîëíîãî èäèîòèçìà è ðàçâîäèëè íàì ïîðîøêè, ïîäæèìàÿ ãóáû.
Ìû íå òî ÷òîáû ïîíÿëè ÷òî-òî òàì ïðî ëþáîâü. Òî ðîäèíó áûëè ãîòîâû ïðîäàòü çà ðîäèíêè íà ïëå÷å, òî äîáèðàëèñü îò îäíîãî ÷óâñòâà ê äðóãîìó àâòîñòîïîì, íà ïîïóòíûõ êðîâàòÿõ. Âëþáëÿëèñü êàê è âñå, áûñòðî, ïàðà ÷àñîâ, íåäåëÿ, ñðàçó äî ãðîáîâîé äîñêè, êàæäûé ðàç äî ãðîáîâîé äîñêè è ÷åñòíî íå ïîíèìàëè, ïðî êàêèõ ýòî áûâøèõ íàñ ñïðàøèâàþò, êòî òàì âîîáùå áûë-òî? Íå áûëî íèêîãî, òîëüêî òû. Ïîäõâàòûâàòü ñ ïîëóñëîâà, ïðèõîäèòü ìèðèòüñÿ ñðàçó óæå íå äî ãîðäîñòè, åçäèòü íà òîò êðàé ñâåòà çà òâîèì ëþáèìûì Áàëüçàêîì, ñóòêàìè íåæíè÷àòü â îäåÿëàõ äî ãîëîäíîãî îáìîðîêà, äàâàòü ñâîþ ñâîþ! ÷àøêó, êîòîðàÿ ïî÷òè ñâÿòûíÿ, íèêîìó è íèêîãäà. ×òî çíà÷èò «òû ñî âñåìè òàê», êòî òàêèå âñå? ß íå èõ ëþáëþ, à òåáÿ. À ïîòîì êàê-òî ðàç íå ïðèéòè â äåâÿòü, îñòàòüñÿ ðàáîòàòü, ñáðîñèòü âûçîâ, ñáðîñèòü âûçîâ, ñáðîñèòü, ñêîëüêî ìîæíî, ïîëó÷èòü «ñ êåì òû, êàêîãî õðåíà» âîñåìü âîïðîñèòåëüíûõ, øåñòü îáâèíèòåëüíûõ è ïîíÿòü, ÷òî âîò è ãðîáîâàÿ äîñêà, ÷òî äîìîé íå õî÷åòñÿ äî ñòåêëà â ãîðëå. Çíà÷èò, íå òî ñàìîå. Ìû çíàåì î ëþáâè âñ¸, ìû íè÷åãî íå çíàåì î ëþáâè.
Ìû ñîâñåì íå óìååì æèòü ïðî áîëüøèå äåíüãè, äà è ïðîñòî ïðî äåíüãè íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ. Íàó÷èëèñü íå òîìó, íè ôàêóëüòåòà ýêîíîìèêè â àíàìíåçå, íè åùå êàêèõ êðóæêîâ êðîéêè è íûòüÿ. Çàòî ïðîôåññîð ãîâîðèë, ÷èòàÿ íàøè ðàáîòû ñòðàøíîãî ìàñòåðñòâà äîñòèãàþò íåêîòîðûå äåòè âîïðåêè îáðàçîâàíèþ è ìû ñèÿëè. Ñòðàøíûì ìàñòåðñòâîì ñåé÷àñ ìîæíî çàðàáîòàòü íà ñú¸ìíóþ êâ ñ äóøåì íà êóõíå è ðàñòâîðèìûé êîôå íî åù¸ íå ñàìûé ïëîõîé. È åñëè âäðóã íàñ ðåøàò óéòè, òî íåäåëè íà òðè ñáåðåæåíèé õâàòèò, à äàëüøå áóäåì ñóøèòü ñóõàðè è êîðìèòü êîøêîé ñîáàêó, à â èþëå åù¸ è ÷åðíèêà ðàñòåò, â àâãóñòå àðáóçû èç êëåòîê âîðîâàòü ìîæíî, äðóçüÿ, îïÿòü æå, êîòëåòàìè ïîäêàðìëèâàþò, íîãè íå ïðîòÿíåì.
Ìû, íàâåðíîå, ñ÷àñòëèâûå. Êòî áû ìîã ïîäóìàòü. Íåäàâíî îêàçàëîñü, ÷òî ñî ñ÷àñòüåì òàì òîæå âñ¸ ïðîñòî. Íå êîãäà õîðîøî, âåñåëî, ïüÿíî à êîãäà ñìåðòè â ýòó ñåêóíäó íåò. Ðàçáèòàÿ ãóáà ñ÷àñòüå. Íîâûå êëþ÷è â êàðìàíå ñ÷àñòüå. Ñîîáùåíèå îò ïîíÿòíî êîãî ñ÷àñòüå. Ïîòåðÿííîå ïàëüòî ñ÷àñòüå. Áèëåò äî ìîðÿ ñ÷àñòüå. Çàÿâëåíèå ïî ñîáñòâåííîìó ñ÷àñòüå êàòåãîðè÷åñêîå.
È ãîä âïåðåäè âèñîêîñíûé, äîñòàòü ÷åðíèë è âûïèòü, íå ïëàêàòü æå, â ñàìîì äåëå.
È íèê÷¸ìíûì íàì âïîëíå åñòü ê ÷åìó æèòü.
Источник
В семь не умерли от рыбьего жира перед завтраком, в десять не были сожраны монстром из шкафа, в семнадцать не повесились, глядя, как пишут не нам глупые нежности. Семнадцать лет, не часов, конечно. В двадцать пять, наверное, все кризисы переживём, мировые, личные. Живучие, очень живучие. Жаль, что никчёмные.
Мы же не здоровые как космонавты. Мы даже не здоровые как призывники. Нас уже привозили в травму интересно покалеченными, чем попало накачивали, зашивали, пересобирали без лишних деталей. И один хирург говорил не дёргаться, если еще дорога рука, а одна старая селёдка не пускала в кабинет, хотя кровь со лба текла так, что ресницы склеивались. На здоровый образ жизни смотрим с уважением, но тоже издалека, так что болели, болело, будет еще болеть. У волка боли, у медведя боли, иногда пытались аж помереть от смешного чего-нибудь, типа гастрита особо острого, в глазах пропадала картинка, и живот вспарывало раскалённой ложкой, и лежали, мокрые, слабые, вывернутые наизнанку. Ревели, хихикали, выдыхая говорили тем, кто сидел рядом — зато ощущения какие! какой опыт! а ты и не знаешь как это, лошара! — и замолкали, вдыхать учились. Те, кто был рядом, считали наше чувство юмора чувством полного идиотизма и разводили нам порошки, поджимая губы.
Мы не то чтобы поняли что-то там про любовь. То родину были готовы продать за родинки на плече, то добирались от одного чувства к другому автостопом, на попутных кроватях. Влюблялись как и все, быстро, пара часов, неделя, сразу до гробовой доски, каждый раз до гробовой доски и честно не понимали, про каких это бывших нас спрашивают, кто там вообще был-то? Не было никого, только ты. Подхватывать с полуслова, приходить мириться сразу — уже не до гордости, ездить на тот край света за твоим любимым Бальзаком, сутками нежничать в одеялах до голодного обморока, давать свою — свою! — чашку, которая почти святыня, никому и никогда. Что значит «ты со всеми так», кто такие все? Я не их люблю, а тебя. А потом как-то раз не прийти в девять, остаться работать, сбросить вызов, сбросить вызов, сбросить, сколько можно, получить «с кем ты, какого хрена» — восемь вопросительных, шесть обвинительных — и понять, что вот и гробовая доска, что домой не хочется до стекла в горле. Значит, не то самое. Мы знаем о любви всё, мы ничего не знаем о любви.
Мы совсем не умеем жить про большие деньги, да и просто про деньги не всегда получается. Научились не тому, ни факультета экономики в анамнезе, ни еще каких кружков кройки и нытья. Зато профессор говорил, читая наши работы — страшного мастерства достигают некоторые дети вопреки образованию — и мы сияли. Страшным мастерством сейчас можно заработать на съёмную кв с душем на кухне и растворимый кофе — но ещё не самый плохой. И если вдруг нас решат уйти, то недели на три сбережений хватит, а дальше будем сушить сухари и кормить кошкой собаку, а в июле ещё и черника растет, в августе арбузы из клеток воровать можно, друзья, опять же, котлетами подкармливают, ноги не протянем.
Мы, наверное, счастливые. Кто бы мог подумать. Недавно оказалось, что со счастьем там тоже всё просто. Не когда хорошо, весело, пьяно — а когда смерти в эту секунду нет. Разбитая губа — счастье. Новые ключи в кармане — счастье. Сообщение от понятно кого — счастье. Потерянное пальто — счастье. Билет до моря — счастье. Заявление по собственному — счастье категорическое.
И год впереди високосный, достать чернил и выпить, не плакать же, в самом деле.
И никчёмным нам вполне есть к чему жить.
Источник
В семь не умерли от рыбьего жира перед завтраком, в десять не были сожраны монстром из шкафа, в семнадцать не повесились, глядя, как пишут не нам глупые нежности. Семнадцать лет, не часов, конечно. В двадцать пять, наверное, все кризисы переживём, мировые, личные. Живучие, очень живучие. Жаль, что никчёмные.
Мы же не здоровые как космонавты. Мы даже не здоровые как призывники. Нас уже привозили в травму интересно покалеченными, чем попало накачивали, зашивали, пересобирали без лишних деталей. И один хирург говорил не дёргаться, если еще дорога рука, а одна старая селёдка не пускала в кабинет, хотя кровь со лба текла так, что ресницы склеивались. На здоровый образ жизни смотрим с уважением, но тоже издалека, так что болели, болело, будет еще болеть. У волка боли, у медведя боли, иногда пытались аж помереть от смешного чего-нибудь, типа гастрита особо острого, в глазах пропадала картинка, и живот вспарывало раскалённой ложкой, и лежали, мокрые, слабые, вывернутые наизнанку. Ревели, хихикали, выдыхая говорили тем, кто сидел рядом — зато ощущения какие! какой опыт! а ты и не знаешь как это, лошара! — и замолкали, вдыхать учились. Те, кто был рядом, считали наше чувство юмора чувством полного идиотизма и разводили нам порошки, поджимая губы.
Мы не то чтобы поняли что-то там про любовь. То родину были готовы продать за родинки на плече, то добирались от одного чувства к другому автостопом, на попутных кроватях. Влюблялись как и все, быстро, пара часов, неделя, сразу до гробовой доски, каждый раз до гробовой доски и честно не понимали, про каких это бывших нас спрашивают, кто там вообще был-то? Не было никого, только ты. Подхватывать с полуслова, приходить мириться сразу — уже не до гордости, ездить на тот край света за твоим любимым Бальзаком, сутками нежничать в одеялах до голодного обморока, давать свою — свою! — чашку, которая почти святыня, никому и никогда. Что значит «ты со всеми так», кто такие все? Я не их люблю, а тебя. А потом как-то раз не прийти в девять, остаться работать, сбросить вызов, сбросить вызов, сбросить, сколько можно, получить «с кем ты, какого хрена» — восемь вопросительных, шесть обвинительных — и понять, что вот и гробовая доска, что домой не хочется до стекла в горле. Значит, не то самое. Мы знаем о любви всё, мы ничего не знаем о любви.
Мы совсем не умеем жить про большие деньги, да и просто про деньги не всегда получается. Научились не тому, ни факультета экономики в анамнезе, ни еще каких кружков кройки и нытья. Зато профессор говорил, читая наши работы — страшного мастерства достигают некоторые дети вопреки образованию — и мы сияли. Страшным мастерством сейчас можно заработать на съёмную кв с душем на кухне и растворимый кофе — но ещё не самый плохой. И если вдруг нас решат уйти, то недели на три сбережений хватит, а дальше будем сушить сухари и кормить кошкой собаку, а в июле ещё и черника растет, в августе арбузы из клеток воровать можно, друзья, опять же, котлетами подкармливают, ноги не протянем.
Мы, наверное, счастливые. Кто бы мог подумать. Недавно оказалось, что со счастьем там тоже всё просто. Не когда хорошо, весело, пьяно — а когда смерти в эту секунду нет. Разбитая губа — счастье. Новые ключи в кармане — счастье. Сообщение от понятно кого — счастье. Потерянное пальто — счастье. Билет до моря — счастье. Заявление по собственному — счастье категорическое.
И год впереди високосный, достать чернил и выпить, не плакать же, в самом деле.
И никчёмным нам вполне есть к чему жить.
Источник
В семь не умерли от рыбьего жира перед завтраком, в десять не были сожраны монстром из шкафа, в семнадцать не повесились, глядя, как пишут не нам глупые нежности. Семнадцать лет, не часов, конечно. В двадцать пять, наверное, все кризисы переживём, мировые, личные. Живучие, очень живучие. Жаль, что никчёмные.
Мы же не здоровые как космонавты. Мы даже не здоровые как призывники. Нас уже привозили в травму интересно покалеченными, чем попало накачивали, зашивали, пересобирали без лишних деталей. И один хирург говорил не дёргаться, если еще дорога рука, а одна старая селёдка не пускала в кабинет, хотя кровь со лба текла так, что ресницы склеивались. На здоровый образ жизни смотрим с уважением, но тоже издалека, так что болели, болело, будет еще болеть. У волка боли, у медведя боли, иногда пытались аж помереть от смешного чего-нибудь, типа гастрита особо острого, в глазах пропадала картинка, и живот вспарывало раскалённой ложкой, и лежали, мокрые, слабые, вывернутые наизнанку. Ревели, хихикали, выдыхая говорили тем, кто сидел рядом — зато ощущения какие! какой опыт! а ты и не знаешь как это, лошара! — и замолкали, вдыхать учились. Те, кто был рядом, считали наше чувство юмора чувством полного идиотизма и разводили нам порошки, поджимая губы.
Мы не то чтобы поняли что-то там про любовь. То родину были готовы продать за родинки на плече, то добирались от одного чувства к другому автостопом, на попутных кроватях. Влюблялись как и все, быстро, пара часов, неделя, сразу до гробовой доски, каждый раз до гробовой доски и честно не понимали, про каких это бывших нас спрашивают, кто там вообще был-то? Не было никого, только ты. Подхватывать с полуслова, приходить мириться сразу — уже не до гордости, ездить на тот край света за твоим любимым Бальзаком, сутками нежничать в одеялах до голодного обморока, давать свою — свою! — чашку, которая почти святыня, никому и никогда. Что значит «ты со всеми так», кто такие все? Я не их люблю, а тебя. А потом как-то раз не прийти в девять, остаться работать, сбросить вызов, сбросить вызов, сбросить, сколько можно, получить «с кем ты, какого хрена» — восемь вопросительных, шесть обвинительных — и понять, что вот и гробовая доска, что домой не хочется до стекла в горле. Значит, не то самое. Мы знаем о любви всё, мы ничего не знаем о любви.
Мы совсем не умеем жить про большие деньги, да и просто про деньги не всегда получается. Научились не тому, ни факультета экономики в анамнезе, ни еще каких кружков кройки и нытья. Зато профессор говорил, читая наши работы — страшного мастерства достигают некоторые дети вопреки образованию — и мы сияли. Страшным мастерством сейчас можно заработать на съёмную кв с душем на кухне и растворимый кофе — но ещё не самый плохой. И если вдруг нас решат уйти, то недели на три сбережений хватит, а дальше будем сушить сухари и кормить кошкой собаку, а в июле ещё и черника растет, в августе арбузы из клеток воровать можно, друзья, опять же, котлетами подкармливают, ноги не протянем.
Мы, наверное, счастливые. Кто бы мог подумать. Недавно оказалось, что со счастьем там тоже всё просто. Не когда хорошо, весело, пьяно — а когда смерти в эту секунду нет. Разбитая губа — счастье. Новые ключи в кармане — счастье. Сообщение от понятно кого — счастье. Потерянное пальто — счастье. Билет до моря — счастье. Заявление по собственному — счастье категорическое.
И год впереди високосный, достать чернил и выпить, не плакать же, в самом деле.
И никчёмным нам вполне есть к чему жить.
Источник
